
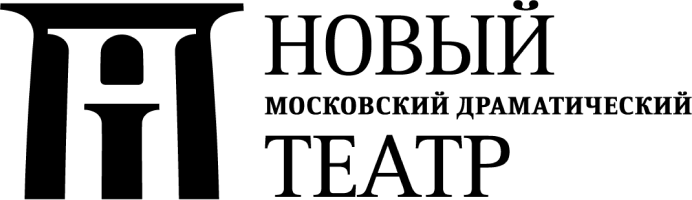 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
02.04.2012
Нет чуда без добра
В традиционном обращении художественного руководителя к зрителю на страницах ежегодного буклетика В. Долгачев, рассказывая о планах на текущий сезон, определил его девиз как «хорошо забытое старое». М. Метерлинк для нынешней отечественной сцены — автор не столько забытый, сколько сложный. Сам по себе факт выбора его пьесы (разумеется, если речь идет о серьезном отношении к делу) уже подразумевает попытку некоего эксперимента, будь то популярнейшая «Синяя птица» (привет Андрею Могучему со «Счастьем») или что-то из малоизвестной драматургии 1920-х годов. В массовом сознании бельгийский гений в худшем случае «детский писатель», в лучшем — «что-то декадентское»; специалисты же скованы прочной цепью ассоциаций: рубеж веков, Мейерхольд, Вахтангов… Но оставим в покое легенды. Сегодня перед режиссером, рискнувшим ставить «Чудо святого Антония» с четкой определенностью собственного замысла, встает ряд принципиальных вопросов. Как, например, работать с актером? Известно, что упомянутые классики считали подражание театру марионеток лучшим приемом «отразить жизнь в свете миросозерцания Метерлинка» — ибо «если бы живой актер сумел игрой своей передать глубочайшую иронию автора еще какими-нибудь средствами, это было бы значительно, но таких средств у актера нет пока…» (В. Э. Мейерхольд) За сто лет вряд ли что-то изменилось. Каким же в таком случае должен быть святой (!) на сцене? В шутку — сразу опасность опрокинуться в пародию, всерьез — совсем странно: оппозиция «добро — зло» эстетически давно не является очевидной, а клерикальная тематика, пусть даже в модернистском варианте, чуть ли не дискредитирована… И главное, что делать с жанром? Простой сюжет о воскрешении из мертвых, которое оказалось не нужно жадным наследникам, безусловно, может быть трактован иронически, цинически даже — таков «закон сиюминутной созвучности театра» (термин М. Туровской). Однако представляя себе творческую индивидуальность В. Долгачева, хотелось лишь с сомнением пожать плечами. Впрочем, режиссер не скрывал, что лишь волею обстоятельств взялся за эту работу, будучи вынужден завершить дело, начатое приглашенным коллегой…но трудная и неблагополучная история создания «Чуда…» — сюжет отдельного текста.
Спектакль идет на сцене «Мастерская» (чуть больше восьмидесяти зрительских мест), продолжительностью около ста минут, и сделан он был за восемнадцать дней. Казалось бы, вот типичная малая форма — а впечатление, будто смотришь масштабное, многофигурное «полотно». Такова концентрированность действия, подробность проработки каждого образа, сложность мизансценического рисунка, продуманность массовых эпизодов. Успеваешь вспомнить и вахтанговское «воронье», и синхронность кордебалета, и строгий полумрак на картинах средневековых живописцев, и пышность бальных (траурных?) туалетов… Удивительно, насколько объемным оказывается мир, где разыгрывается всего лишь «скверный анекдот», зарисовка из жизни абстрактного провинциального семейства. Дело даже не в том, что в списке действующих лиц появились новые персонажи — их мало; и не в наличии антракта, необходимость которого продиктована только логикой интерпретации. Здесь иное: назовем это условно «воспоминанием о большом стиле», которое необъяснимым образом будит в зрителе ощущение долгого диалога со множеством участников (нечто противоположное шумным и бестолковым ток-шоу) — без пафоса и излишеств — но и без интимности, свойственной камерным сценам. Разговор этот вряд ли о Чуде (забудем слово «миракль»), он скорее о чуде. Обыкновенном, негромком, без рекламы. О незамутненной искренности, вере в человечный поступок, на который перестали быть способны энергичные, ухоженные прагматики. В связи с этим, думается, напрасно режиссер отказался от авторского подзаголовка «сатирическая легенда», заменив его простеньким «комедия» — многие зрители ждут, когда уже можно будет похохотать вволю, и остаются разочарованы.
… «Снег, дождь и ветер» (ремарка автора) превращены постановщиком в занавес белых хлопьев, медленно кружащихся под звуки романтического «Русского вальса» Д. Шостаковича. Зыбкая завеса на несколько мгновений отделяет нас от игрового пространства: черный кабинет, черный квадрат-ширма у задника, инвалидное кресло справа, обтянутое роскошным алым бархатом, мертвенно-бледные цветы в ведрах вдоль стены. Плавно опускается колосник над ширмой, ряд безжалостных софитов «смотрит» прямо в зал. Не сразу и замечаешь фигурку юной служанки Виргинии (Дарья Бутакова), которая добросовестно, внаклонку, с мылом драит полы, горько плача об усопшей. Именно эта смешная девчонка — круглолицая, свежая, звонкоголосая, по-детски наблюдательная и по-взрослому великодушная, с ее бесстрашной доверчивостью и ошеломляющей простотой — и есть главная героиня спектакля. Только Виргинии дано видеть сияние над головой странного гостя, и только она окажется в итоге наделена даром сочувствия (и услышит в награду от хозяев презрительное: «Дура!»). Сказать, что актриса играет с завидным темпераментом — не сказать ничего. Тут и обобщенный витальный образ «ловкой служанки», и психологически точный портрет современной молодой провинциалки, подрабатывающей частным клинингом в состоятельной столичной семье — да, не типичный, немножко сказочный… но ведь и речь о чудесах. Как вкусно девушка перечисляет приготовленные к поминальному столу блюда («форель под соусом шу-убер-рт!»), как орудует тряпкой, поправляет волосы, разглаживает передник — все эти уютные бытовые подробности особенно выпуклы в сценах со Святым Антонием. Сергей Моисеев играет подчеркнуто апсихологично, очищая образ пришельца от всего житейского. То ли лохмотья, то ли серые кружева, характерный наклон головы, странноватая полуулыбка Джоконды, подслеповатый блаженный взгляд, общение с партнером — даже не через зал, а через пустое пространство где-то над головами зрителей, все реплики — на одной ноте, предельно бесстрастно… Фигура без возраста и свойств, даже не абсурдная — никакая. Поэтому, когда в финале Виргиния заботливо, как ребенка на мороз, обвязывает беднягу своим шерстяным платком и уступает собственные ботинки, сомнений уже не остается. Ясно, кто из этих двоих настоящий святой…
Если дуэт Виргиния — Антоний строится на контрасте, то вторая смысловая связка Густав — Гость с трубкой (Никита Алферов и Михаил Калиничев), напротив, на приеме отражения. Режиссер использует внешнее сходство исполнителей, достигая эффекта «тени» («Христиан-Теодор — или Теодор-Христиан?»). Густав, хозяин дома и наследник, просто дитя эпохи креативных менеджеров, раз и навсегда наладивший свои отношения с окружающим миром «через бумажник» (как привычно он достает из кармана своего отутюженного стильного костюма сей предмет!..), вчерашний мальчишка, с отличием окончивший какой-нибудь модный факультет. Гость с дымящей трубкой — «темное» альтер эго героя, провокатор-инферно. Кажется, именно о нем со страхом говорит Виргиния: «Сердитый…» У Гостя практически нет собственного текста, он эхом повторяет уже сказанное, но пристальным взглядом, как бы гипнотически подталкивает Густава к тем или иным действиям. И достигает большего, нежели трусоватый либерал-очкарик Доктор, дожевывающий рябчиков (точнейшее исполнение Александра Курского), агрессивный Ахилл (Антон Морозов), заходящийся в перманентной истерике, или даже Полицейский (Александр Зачиняев) с узнаваемыми интонациями вокзального мента, вообразившего себя Жегловым…
Но вот, стандартная схема дала сбой. Тетушка Гортензия (Татьяна Кольцова-Гилинова), закутанная в белое, предстает перед изумленным семейством, усаживается в кресло, повелительно играя платком, осматривается, будто сама не веря в происходящее, и гневно требует гнать нищего прочь. С Густавом, утратившим почву под ногами, начинает твориться странное. Подчиняясь стихийной силе, его тело вдруг дергается в конвульсивном танце, и мало-помалу движения обретают свободу и легкость стэпа. Неважно уже, будет ли тетушка владеть даром речи, что произойдет с Антонием, как быть с наследством. Еще одно чудо воскрешения налицо: диктат Гостя преодолен. Растерянный мальчик, впервые столкнувшийся с необходимостью самостоятельного решения, не предусмотренного в вариантах ответа на тестовое задание, тихо спрашивает, глядя вслед пришельцу: «Он же… ничего плохого нам…не сделал?.." А кресло богатой родственницы опустело незаметно для зрителя, был ли фокус на самом деле — неясно.
… В беседе со мной для „Режиссерского столика“ В. Долгачев несколько раз повторил: „Это не мой автор. Я не знал, как его ставить“. Пришлось…»
