
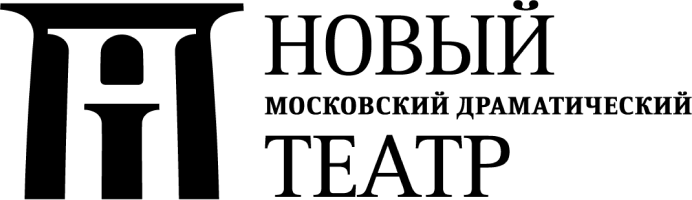 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Ru
26.11.2015
Таинственный реалист
– Вячеслав Васильевич, Вы – самая таинственная персона из тех, с кем мне доводилось беседовать. Готовясь к интервью, я «перелопатила» весь Интернет и никакой вашей личной информации не обнаружила, так, несколько скупых строчек: где учился, где работал, что поставил…
– Как здорово! Мне так это нравится, это действительно на меня похоже, таинственность – это мое…
– Кажется, пора приоткрыть занавес, снять хотя бы одну из «семи вуалей», ведь юбилей – всегда хороший повод поговорить о том, как и с чего все начиналось. Вот, например, как Вы оказались в театре, почему выбрали именно этот путь?
– Можно я начну чуть-чуть с другого? Вот вы сказали про вуаль, понимаете, все, кто смолоду хочет быть автором, стремится подпрыгнуть, куда-то залезть и оттуда, сверху, что-то всем рассказать, научить, поведать. Александр Моисеевич Володин, которого я безумно люблю, говорил, что люди пытаются залезть на кочку и крикнуть: «Я – такой, я – такой!» Сначала и у меня было такое желание, я же занимался творчеством. А потом, где-то в середине моей театральной жизни это желание совершенно пропало, а также пропало желание соперничества, успеха, славы. Оно почему-то стало меня сильно смущать, даже отвращать, все эти премии, фестивали, награды. Искусство – не спорт, я бы даже сказал, оно противоположно спорту. У меня возникло желание стать безымянным автором. Несколько лет проработать во МХАТе, ставить параллельно с Олегом Николаевичем Ефремовым столько спектаклей, держащих потом репертуар, и не иметь звонкого имени, это надо было умудриться. Я тогда озадачился вопросом: где-нибудь есть таблички с именами строителей храмов? А ведь они делали и делают гораздо больше, чем мы в театре. Кто построил Церковь Покрова на Нерли? А подходишь к ней, и…получаешь столько, сколько ни один театр не даст. И почему строители безымянные, а у меня должно быть имя? Начав нашу беседу с таинственности, вы меня очень порадовали. Зачем светиться? Главное, чтобы дело было. А вообще, таинственность – просто нежелание засвечиваться, сиять именем… Деянием, делом можно, а вот именем…
Мне очень нравится, что в нашем театре часто хвалят артистов, не замечая режиссуры. Это прекрасно, когда не замечают, кто сделал…
– Вернемся к делу. Когда началось Ваше увлечение театром?
– В первом классе учительница повела наш класс в Центральный Детский Театр на спектакль «Цветик-семицветик», и я «умер» от счастья. Первый раз в жизни был в театре и задохнулся от восторга. На следующий день наша замечательная учительница целый час посвятила обсуждению того, что мы вчера видели, и кому что понравилось. Кто-то говорил про свет, кто-то про артистов, кто-то про героев, про музыку, дошла очередь до меня, и я сказал: «Мне понравился тот человек, который все это сделал…» – и еще добавил, что хотел бы быть тем человеком…
– Ничего себе, в первом-то классе…
– Да, удивительно, сам не знаю, откуда во мне это взялось. А человеком, «сделавшим» «Цветик-семицветик» оказался Анатолий Васильевич Эфрос. Я ведь тогда ничего про театр не знал. Учительница спросила: «Ты хочешь быть режиссером?» И тогда я впервые услышал это слово, узнал, что есть такая профессия. С этого все и началось. А дальше, я каждый год заставлял одноклассников участвовать в моих постановках, ставил спектакли.
– В Вашей школе не было театрального кружка или студии?
– Нет, я все придумывал и делал сам. Кому-то это нравилось, в основном, девочкам, мальчикам – не очень, но я всех заставлял. Весь класс у меня играл, я всем находил роли, заставлял делать костюмы, потом мы показывали наши спектакли всей школе. Собственно, тогда-то я и стал режиссером. Питер Брук же сказал, что режиссер – тот, кто может убедить компанию людей делать то, что он хочет. В восьмом классе я услышал, что в Москве существует школа, в которой есть настоящий театр, и помчался туда. Узнал поздно, в начале июня. Примчался в Школу-Лабораторию № 1 при Академии Педагогических наук (так она называлась), а мне говорят, что прием окончен. Я – в слезы: упустил такую возможность! Мимо проходила женщина в синем халате. Увидев зареванного мальчика, предложила пойти к ней в химический класс (там был недобор). Так и окончил я эту школу, не зная в итоге ни химии, ни физики, целыми днями пропадая в школьном театре. Учителей упросил не тратить на меня время: был на сто процентов уверен, что точные науки мне не понадобятся, а на тройку всегда отвечу. На уроке химии я переписывал от руки поэму Гоголя «Мертвые души», она мне очень нравилась. Я тогда буквально «болел» Гоголем, даже сделал инсценировку «Мертвых душ».
– После школы Вы поступили в Театральное училище?
– Не сразу. В ГИТИСе я дошел до творческого конкурса, но выглядел слишком молодо, лет на двенадцать, наверное, и меня не взяли, посоветовали поучиться в каком-нибудь другом институте. В комиссии сидела Мария Иосифовна Кнебель, которую я обожал, знал ее книжку «Поэзия педагогики», так вот, она посоветовала мне пойти на филфак. Я пошел и поступил в МГУ на филфак. Выдержал, правда, без театра только два года …
– Но в МГУ же был потрясающий студенческий театр…
– Я в него не пошел: в тот момент он уже не был таким потрясающим: я посмотрел у них два спектакля, мне не понравилось, и я создал свой театр. Параллельно с этим, я много ходил в московские театры, видел почти все, что тогда шло.
– У Вас были театральные кумиры?
– Конечно! Анатолий Васильевич Эфрос, у которого я смотрел все подряд и помногу раз, скажем спектакль «Три сестры», который был закрыт (я видел все его показы). Второй кумир – Георгий Александрович Товстоногов. У меня очень хорошая память: в одиннадцать лет я посмотрел «Идиота» со Смоктуновским в постановке Товстоногова, а когда через много лет судьба меня свела с Иннокентием Михайловичем (мы с ним много работали, подружились), и я сказал, что видел «Идиота» и пересказал спектакль во всех подробностях. Он, зная мой возраст, был чрезвычайно удивлен.
– Вы специально в столь юном возрасте ездили в Ленинград, чтобы попасть в БДТ?
– Конечно! Знаете, спектакли Товстоногова и сегодня на меня производят колоссальное впечатление. У него были важны на сцене не конструкции, а живые люди. В его спектаклях был такой мощный содержательный энергетический заряд, который и сегодня на меня бы воздействовал.
– Кроме товстоноговского «Идиота», есть другие спектакли, являющиеся для Вас неким мерилом, высшим театральным пилотажем?
– «Мещане» Товстоногова – великий спектакль. Показать его сегодня живьём – умрут все.
– К счастью, есть замечательная телевизионная версия…
– Да, для Товстоногова на Ленфильме был выстроен павильон, спектакль снимали как фильм, крупным планом, потому он такой живой, и какие там актерские работы!
– Давайте вернемся к истокам. Ваши родители не имели отношения к театру?
– Никакого.
– Как же они отнеслись к Вашему поступлению в театральный институт?
– Рыдали. Когда я оканчивал школу, папа меня умолял: «У тебя с гуманитарными науками все хорошо, у тебя пролетарское происхождение, тебя точно возьмут в МГИМО, иди на журналистику…» И дальше озвучивалась папина мечта: «Ты бы объездил весь мир, и когда-нибудь, возможно, даже побывал бы в Америке…» Если бы папа знал, что я осуществлю всю его программу, но только в театре…
– Успели родители побывать на Ваших спектаклях?
– Нет, они не ходили в театр, не верили, что это серьёзно. Как-то мама сказала: «По-моему, ты всех обманываешь. Автор написал пьесу, художник сделал декорации, костюмер сшил костюмы, композитор сочинил музыку, артисты выучили роли, сыграли. А ты что?» Она не могла понять, кто такой режиссер и что без режиссера не было бы спектакля, стеснялась говорить родственникам, чем ее Слава занимается, ведь он – не журналист-международник и даже не инженер. Зато однажды, увидев меня на телеэкране в программе «Время», тутже начала звонить всем знакомым, чтобы они включили телевизор посмотреть на меня. С этого момента она стала уважительней относиться к моей работе.
– Вы можете назвать главных учителей в жизни и в профессии?
– Я хотел бы процитировать Стреллера: «Моими учителями являются все, кого я встречал в своей жизни…» Вопрос в том, насколько ты сам можешь учиться у них. Мне безумно везло на людей: я встретился с таким количеством интересных талантливых прекрасных людей! Не говоря уже о людях совершенно противоположных по образованию, статусу, пониманию жизни, у всех я учился...
– Вячеслав Васильевич, Вы пришли в Новый драматический театр как в Дом, или сразу начали строить свой?
– Когда я пришел в этот театр, тепло в нем, к сожалению, угасло. Студийный дух был лишь при основателе театра Викторе Карловиче Монюкове, но он ведь довольно быстро ушел, оставив театр ученикам. Потом появился режиссер Виталий Ланской, долго и успешно руководивший театром. После Ланского был замечательный режиссер Борис Александрович Львов-Анохин, но он находился здесь как бы в ссылке в период разногласий с Малым театром. В Малом театре Борис Александрович с его взглядами, знаниями, опытом был на месте, а сюда он приехал в лес, в глушь, в рабочий район, продолжая делать спектакли все в том же парадном французском стиле. Это смотрелось довольно странно. Более того, он был уже немолод, не активен, а тут географические проблемы театра в связи с удаленностью, в основном ходит местная публика, нужен большой репертуар, а он выпускал один спектакль в год или даже в два, последний спектакль вообще репетировал три года. Он не спешил, думал об искусстве и о себе. Его не волновал зритель, продажа билетов, да и время, надо сказать, было такое, когда никто ни с кого не спрашивал. Когда я пришел в Новый драматический, в репертуаре театра было четыре названия, играли всего два раза в неделю, артисты были растренированы, а вы сами понимаете, пианист, например, не подойдет два дня к фортепиано, какими пальчиками будет играть…
– Быстро Вам удалось со всем этим разобраться?
– Как учил меня Товстоногов: надо сразу дать всем работу, и тут же становиться понятно, кто что может, кто чего стоит. У многих не получилось, начались сложности, конфликты, ведь трудно признаться в своей профнепригодности. Я застал довольно возрастную труппу, а вы понимаете, что человеческий организм костенеет после пятидесяти, и актерский аппарат тоже зарастает. Но самое главное, была потеряна вера в то, что в этом театре вообще может что-либо происходить, было потеряно желание что-либо делать, актеры стали прокисать, подрабатывать, например, извозом, а в театр приходили только за зарплатой. Я же всех занял в репертуаре, я – упорный, другое дело, что не все смогли.
– Кто Вы актерам: папа, папа Карло или Карабас-Барабас?
– Любой режиссер для актеров – Карабас-Барабас, даже, если он этого не хочет. Иногда артисты меня папой все же называют, но верить в это не стоит. На самом деле, вечный конфликт между режиссером и актерами дает энергию…
– На то и щука, чтобы карась не дремал…
– Конечно. Та группа артистов, которой не хотелось работать, как только поняла, что будет по две репетиции в день, ежедневные спектакли, встала перед выбором. Сначала они попытались от меня избавиться, чтобы все осталось, как прежде…
– Письма, наверное, начали писать…
– Да, коллективные, в Управление культуры. Там разобрались и приняли решение: «Долгачев будет работать, а вы уж смотрите, как хотите…» Ну, и некоторые не выдержали, отвыкли ведь работать каждый день.
– Вячеслав Васильевич, Вы – стратег или тактик? Далеко ли простираются Ваши планы?
– Я – человек планов, не могу жить без планов на день, на неделю, на месяц, на год и т.д.
– Вы такой структурированный человек?
– Да, и, если планы меняются, внутри меня рушится тщательно выстроенная система, я в панику впадаю, поскольку строить могу только поэтажно, тогда понятно, когда шпиль водружать, иначе – хаос.
– Вы – не абстракционист, реалист.
– Да, это вы прямо второй раз в точку, я – таинственный реалист. Недавно прочел где-то замечательную фразу: «Настало время защитить русский реализм». Я с этим полностью согласен. Не представляю, как можно быть на сцене неживым. Если ты – живой, значит, реальный. Если начинаешь разрушать эти законы, значит, разрушаешь живое и реальное. Есть другое искусство, когда не соблюдаются законы реальности, тогда актер превращается в стаффаж, то есть, предмет, которым можно манипулировать, и это тоже может быть талантливо и интересно. Например, режиссеру Роберту Уилсону все равно, какой артист перед ним, я видел много его спектаклей в Нью-Йорке, в Париже, там все замечательно, но какая ему разница, кто забелит лицо гримом? Он – талантливый художник, а содержания в его спектаклях для меня нет никакого: «Басни Лафонтена» в Комеди Франсез, «Сказки Пушкина» в Театре Наций, – все похоже, тоска зеленая, живых людей нет, есть конструкции. Если кто-то любит иллюзион, ему понравится, и слава Богу. Но у меня лично нет на это ни времени, ни желания. Не хочу приходить в театр, чтобы оставаться равнодушным, я – совсем не бесчувственный, меня где-то и мурашки пробирают.
– Вы в Москве успеваете ходить на спектакли в другие театры?
– Очень мало. Боюсь обжечься, зря потратить время, сидеть и страдать оттого, что плохо играют артисты. Хожу только, если почти абсолютно уверен. Вот мне очень понравился спектакль Юрия Бутусова «Чайка», там такое точное попадание в самый нерв пьесы, в мир искусства, как это страшно, как корежит, перемалывает людей, какие все несчастные внутри. Но когда в очень эффектном спектакле «Добрый человек из Сезуана» мне три часа доказывают, что белое – белое, а черное – черное, мне становится скучно. У Александра Моисеевича Володина в «Записных книжках» есть: «Скучно долго смотреть то, с чем ты заранее согласен».
– Что Вами движет, что Вас вдохновляет?
– Какой вопрос (загадочно улыбается) ... А что может еще вдохновлять?.. Только… Любовь…
– Любовь к…?
– Не к, а просто любовь. Если нет любви, тогда – равнодушие, а равнодушие – антитеза любви. Когда тебя волнуют какие-то человеческие истории, чьи-то беды, чьи-то радости, то это и вдохновляет, этим хочется поделиться. Любовью хочется поделиться.
– Вот мы с Вами упоминали «мурашки». А интересно, от спектаклей, идущих в Вашем театре, у вас лично идут «мурашки»?
– Ой, как забавно (смеется), конечно же, есть. А иначе, зачем я этим всем занимаюсь? Мне только надо, чтобы у остальных они тоже были. В каждом спектакле есть секунды, минуты, когда я делаю так, чтобы это произошло, и со мной это происходит, это и есть моя лакмусовая бумажка, мой инструмент, которым я проверяю, получается у меня или нет. Если меня волнует, надеюсь, это будет волновать еще кого-нибудь.
– Тогда следующий вопрос: как Вы относитесь к критике?
– С моей точки зрения, критика давно перестала быть интересной и полезной. Когда я читаю рецензии критиков на те же спектакли, на которых был я, удивляюсь, кто им дал такое право говорить от всех, а не от себя. Критики тоже ведь живые люди со своими пристрастиями, вкусами и пр. Мне на днях очень понравилась статья Татьяны Москвиной. Я с ней полностью согласен: нынче «не критик зависит от театра, а театр зависит от критика»; есть группы критиков, поддерживающих свои театры и своих режиссеров, в то время как десятки других «топятся в забвении»; критики, которые сидят на зарплате и служат своему театру, какие после этого критики? По-моему, все эти страсти, которые кипят вокруг «Золотой маски», ужасны, отвратительны. Есть ли у нас сегодня настоящая объективная критика, к которой можно серьезно относиться?
– А как же тогда зрителям решать, на какой спектакль покупать билеты, на какой, не стоит?
– Есть социальные сети, есть отзывы самих зрителей, а вообще, как всегда было еще при советской власти: «сарафанное радио». Если вам понравился спектакль, вы звоните своим друзьям, вам они верят и идут в театр. Вам верят, а критикам нет.
– Возможно ли собрать театральную труппу как команду космонавтов, чтобы была полная психологическая совместимость, или в итоге всё равно будет «террариум единомышленников»?
– Знаете, в нашем театре – не террариум, мы и этим уникальны: у нас практически нет интриг пошлом понимании этого слова. В театре есть ощущение Дома, в который приходят, в котором тепло. Я проработал в большом количестве московских театров, видел много всякого, но, оказывается, можно, жить вообще без интриг.
– Можете ли Вы терпеть человека, если он невыносим, но талантлив?
– Приходится.
– А что Вы не прощаете людям?
– Предательства. Никому и никогда.
– Вячеслав Васильевич, Вы по работе часто улетаете в Америку, кто же тогда хозяйничает в Вашем Доме, кто держит руку на пульсе?
– Я. Где бы я ни был, я всегда на связи, слава Богу, сегодня Интернет это позволяет…
– Не то что во времена Немировича-Данченко, письма с жалобами-то как тогда долго шли…
– Ну да, сейчас все мгновенно. Я даю распоряжение, когда заболевает, например, артист, на кого менять, решаю всякие рабочие моменты…
– Любой юбилей – некая лестничная площадка, на которой можно на миг остановиться, оглянуться назад, прежде чем подниматься дальше, понять, какой путь пройден, какой еще предстоит. Что Вы можете сказать о пройденном пути?
– Я бы ничего не хотел изменить в своей жизни. Я бы все прошедшие годы прожил точно так, как в моей жизни сложилось. Всё у меня было так, как должно было быть…
