
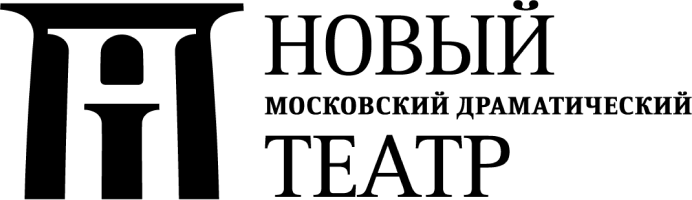 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
06.11.2010
Вячеслав Долгачев: «Если кругом сладости – значит, кто-то должен готовить и нормальную пищу»
В этом году Новый Драматический театр отмечает 35-летие. И опыт этого театра внушает оптимизм. Чтобы собирать полные залы, не обязательно потакать дурным вкусам. Достоевского, Шеппарда и Пряжко можно играть и в театре, который находится почти у Кольцевой дороги.
— Само название — Новый театр — заставляет воспринимать его как какой-то только что образовавшийся коллектив. Между тем, театру 35. Да и вы руководите им уже целое десятилетие. Здесь работали интересные режиссеры с разными эстетическими программами. Не все зрители, попадающие сюда, знают, что стены эти напитаны серьезной театральной традицией.
— Борис-Александрович Львов-Анохин, возглавлявший театр до меня, был очень известным режиссером. Именно благодаря ему когда-то прославился драматический театр им. Станиславского. Его спектакли в Малом театре были совершенно изумительными и составили целую эпоху, вошли в золотой фонд Малого театра. И сюда, в совсем не Малый театр, а театр на отшибе, он тоже принес свою особенную эстетику, изысканность. Приглашал знаменитых актеров: Веру Васильеву, Спартака Мишулина. Предполагал, что это привлечет публику. Когда я пришел в театр, я тоже сделал такой ход: позвал своих любимых артистов Льва Дурова и Бориса Щербакова. Потом — Вячеслава Михайловича Невинного. Но я это сделал не столько для привлечения публики, сколько для того, чтобы местные артисты смогли на репетициях посмотреть, что такое уровень, школа. Потому что после смерти Львова-Анохина художественного руководителя не было два года, и труппа потеряла форму. Нужно было, чтобы они тянулись. Моя задача была — выращивать собственных артистов. Сейчас артисты стали фигуристами, а фигуристы — артистами. И то и другое не квалифицировано.
— Сейчас действительно многие путают шоу-бизнес и театр. Для неискушенных зрителей эти понятия во многом слились.
— Именно поэтому решил выращивать своих актеров. И совершенно неважно, снимаются ли они в сериалах. Хотя, к сожалению, некоторые у меня снимаются в сериалах, а некоторые — в приличных фильмах. Но не это определяет смысл жизни нашего театра. Я горжусь тем, что за десять лет мне удалось вырастить хорошую команду молодых актеров. Актеров драматических, которым нравится работать в театре. Здесь они стали популярными. У них есть поклонники, люди, которые интересуются, играет ли этот артист в следующем спектакле. Это как раз то, что должно быть вокруг драматического театра. Я не хочу привлекать артистов ради имиджа, пиара. Если мне понадобится известный артист, то только по своей творческой сути. Даже и без знакомых лиц публика заполняет залы.
— Публика, как правило, хочет комедии, хочет посмеяться.
— Вот этого я не умею. Включайте первый канал, второй канал. Можно смеяться, не выходя из дома.
— Так как же вы удерживаете публику?
— Оказывается, что желание посмеяться — первичное. А после того, как уже отсмеялся, возникает вопрос: зачем ты слушает все эти шутки-прибаутки, если они тебя на самом деле никуда не приводят? Ты получаешь витамин, это тоже нужно для жизни, но передозировка ведет к смерти. Я был знаком с основателем этого театра, Виктором Карловичем Монюковым. Однажды мы с ним встретились на гастролях Нового драматического театра в Ялте, пили в каком-то советском кафе из стаканов кофе. И он мне сказал замечательную фразу: если ты приезжаешь в город на гастроли и кругом много сладостей — значит есть в городе нечего. Это ответ на то, о чем вы только что меня спросили. Смех — это сладости. Если кругом сладости, значит, кто-то должен готовить и нормальную пищу. Вот мы этим и занимаемся.
— В этом сезоне у вас намечены серьезные премьеры: «Дело» Сухово-Кобылина, «Урожай» очень модного современного драматурга Павла Пряжко, затем «Века Луны» Шеппарда, Бергман.
— «Дело» — одна из моих любимейших пьес. Вообще, я люблю всю трилогию. Но мне почему-то кажется, что настало время именно для пьесы «Дело». Ее публика знает меньше, и, с моей точки зрения, большого сценического успеха у нее не было. Гораздо более популярны «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина». Но когда я читал «Дело» на труппе, все были шокированы актуальностью излагаемых событий, как будто это писал не какой-то там Сухово-Кобылин, которого они знают по истории театра, а современный драматург.
— Но язык Сухово-Кобылина уже довольно архаичен…
— Прежде чем выйти на труппу, мы сделали свою редакцию. Убрали некоторую архаику языка, Чуть-чуть сократили — спектакль будет идти всего два часа с антрактом.
— Кто делал адаптацию?
— Наш замечательный завлит Евгений Васильевич Вихрев. В предисловии к пьесе мы нашли строчку, которую сделали жанром спектакля: «Из самой реальнейшей жизни с кровью вырванная драма». Это действительно так. Тот беспредел, который происходит с чиновниками, доходит уже и до глав нашей страны. Чиновников пора сокращать. Вот тут была встреча некоторых режиссеров с президентом, и критик Григорий Заславский написал замечательную статью в «Независимой газете», где говорит о своем разочаровании. Я понимаю, что президенту страны уж точно не до театра, но до законности ему должно быть дело. А все законы, которые издаются сейчас, делаются для того, чтобы всех задушить. Цель искусства — духовное развитие нации. Искусство работает с тем, кто такой человек, кто он сам для себя ощущает перед миром и космосом. Искусство — это, конечно же, художественное творчество, а не производство, во что нас пытаются сейчас загнать. У нас на репетиции не объявляют, как в Америке, что рабочий день уже закончен. Когда спектакль на выпуске, все продолжают работать абсолютно безлимитно. И это при минимальных зарплатах. А нас ограничивают со всех сторон. Так что пьеса «Дело» имеет отношение и к проблемам нашей жизни и к внутритеатральным проблемам.
— Этот спектакль будет в современных костюмах или исторических?
Я уже второй раз пытаюсь сделать спектакль, в котором публика должна не заметить костюмов. Это значит, что они не исторические и не современные. Они какие-то. Такой симбиоз времени и места, при котором все вполне исторично, и, в то же время, не архаично. Нашему художнику, Владимиру Ковальчуку, эта задача была интересна. Его работа «Дети солнца» в Малом театре очень любопытно сделана. И по фактурам, и по фасону. Там тоже все переплетено и перепутано там во времени. С одной стороны — Горький, с другой стороны — сегодняшнее.
— «Дело» — пьеса классическая, а вот вторая премьера, «Урожай» — очень современная. Павел Пряжко — самый модный драматург на данный момент.
— Я даже удивился. Я не следил за тем, как он оккупировал Москву, а вчера еду в машине по городу и смотрю — в Школе современной пьесы премьера «Поле», у нас вот «Урожай». Но все талантливое вырывается на свободу. Пряжко очень остро видит реальность, буквально на грани фола, и переносит ее в свою драматургию. Получившая в прошлом сезоне «Золотую маску» «Жизнь удалась», мне кажется, достаточно конфликтная и спорная для восприятия пьеса. Я смотрел этот спектакль и, соответственно, слушал текст с большим трудом. Когда я выхожу на улицу и вижу влюбленные парочки, а девочки говорят исключительно матом, на меня это не производит позитивного впечатления. Пряжко же вводит этот абсолютно нецензурный текст в ткань своего произведения. Выносить это на сцену, особенно если в зале сидели бы подростки, я считаю почти преступлением. Потому что все, что показывает телевидение или сцена, оказывается нормой. Вхождение мата в норму мне кажется опасным для общества.
— В пьесе «Урожай» этого немного, да и режиссером стали не вы, а Наркас Искандарова.
— Это моя ученица. По всем параметрам эта пьеса ей ближе, чем мне. Просто по поколению. Но и у нее точно такое же отношение к этой проблеме. Она, несмотря на свою молодость, внутренне достаточно взрослый человек и понимает, что общество может очень скатиться.
— А какой театр вы любите?
— Психологический. Это моя любовь навсегда. И мне кажется, чем меньше вокруг артистов, и все происходит только через энергетику людей, тем интереснее. Например, пьеса Шеппарда, которую мы готовим, очень трудная. На большой сцене сидят два артиста и пьют виски. Ничего не происходит. Нет никакой музыки, шумов. Они сидят и разговаривают. Надеюсь, найдется кто-нибудь, кому это будет интересно.
