
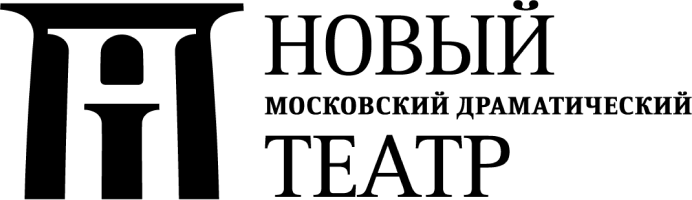 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
30.12.2008
Подмосковные вечера
Новый драматический театр находится на улице Проходчиков — то есть (для тех, кто, подобно мне, не так свободно ориентируется в окраинных районах Москвы, как в родных своих новостройках) практически в области, в лесопарковой зоне. Отправляясь сюда впервые в командировку, я и не предполагала, что вид из окна фойе будет напоминать бескрайнее «зеленое море тайги», а завлит театра Евгений Вихрев с улыбкой расскажет, как из парка «Лосинка», бывало, выходили на дорогу живые лоси... Добраться сюда непросто, редкий столичный критик даст себе труд посетить премьеру — зато постоянные зрители, каковых немало, могут позвонить в администраторскую с наивной просьбой: «Пожалуйста, не начинайте ещё минут пятнадцать, мы застряли в пробке на Ярославском шоссе!». Но театр этот, несмотря на кажущуюся свою изолированность, художественно вполне состоятелен. Крепкая, молодая (пусть и без ярких «звезд») профессиональная труппа, уютное здание, продуманный репертуар с учетом не только технических и финансовых возможностей, но и адресата — жителя Подмосковья и его семьи (детские спектакли — отдельный и немалый репертуарный массив!). Вот уже 34-й сезон работает этот скромный коллектив, и за это время здесь сложилась удивительная атмосфера, как ни банально это звучит, — теплая, доверительная.
С 2001-го года художественным руководителем Нового театра является Вячеслав Долгачев, заслуженный деятель искусств России, окончивший РАТИ и 10 лет проработавший (внимание!) в МХТ им. А. Чехова. В Новом театре он успел за это время поставить огромное количество спектаклей: от Вольтера и Островского до Петрушевской и Володина... Как же себя чувствует известный режиссер (совсем недавно в Нью-Йорке в театре «Classic Stage Company» вышла его «Чайка») в условиях маленького театра «на обочине»? Об этом, а также о трех премьерах Нового драматического, которые мне предстояло посмотреть, мы и беседовали за чашкой кофе...
Людмила Филатова. Вячеслав Васильевич, не буду спрашивать о причинах ухода из МХТ, давайте сразу о главном. Какими «плюсами» и «минусами» своего положения может поделиться руководитель подмосковного театра?
Вячеслав Долгачев. Вообще-то, знаете, нам здесь хорошо! (Cмеется.) А если по существу, вопрос сложный, и однозначно на него не ответишь. Театр, конечно, не должен находиться далеко от культурных районов. Он может очень быстро зачахнуть. Знаете, говорят, что ресторан нужно открывать там, где уже ресторан есть, — так вот, и театр тоже! Не случайно и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, да и в Москве есть «театральные» улицы, площади, районы, где сосредоточена театральная жизнь. Почему? Во-первых, удобно добираться, во-вторых, есть возможность ходить в один, другой, третий театр, чтобы смотреть, сравнивать... Происходит естественный процесс «коллекционирования» зрителей. Если же театр «на отшибе», то добраться туда уже проблема, мы же понимаем, что транспорт в сегодняшней Москве чуть ли не самая «болевая» точка. Кстати говоря, нужно же как-то узнать об этом театре! Захотеть туда прийти! И просто надеяться на случайность, на то, что люди, может быть, когда-нибудь что-то услышат, увидят афишу...
Л. Ф. Это уже вопрос грамотного менеджмента.
В. Д. Конечно! Театр нуждается в колоссальной рекламе, денег на которую нет. Их не дает бюджет, а сами мы заработать не можем. Реклама нынче стоит дороже, чем спектакль! Вот и думаешь, на что потратить деньги — на творчество или на «раскрутку»...
Л. Ф. И как в итоге решается вопрос?
В. Д. Пытаемся как-то все сбалансировать... Несмотря ни на что, к нам ходят люди, которым мы интересны, залы у нас полные. С другой стороны, размышляя о том, чем же ты здесь собственно занимаешься, понимаешь — нет никаких ограничений. Это о «плюсах». Я здесь абсолютно свободен, ставлю что хочу, делаю что хочу и с кем хочу! Конечно, есть специфика публики. К нам ходит в основном житель микрорайона, понятно же, что это — очень определенная часть населения. Но ведь плохих зрителей не бывает! Это я точно и твердо знаю.
Л. Ф. Кое-кто из ваших коллег любит порассуждать о том, какая у нас необразованная, невоспитанная, зазомбированная публика...
В. Д. Слышал, да... так вот, это неправда. Это очень поверхностный взгляд, так говорят те, кто не уважает зрителя. Просто есть люди, знающие историю театра, чуть больше «насмотренные»... но мне кажется, что театральное искусство апеллирует не к знанию. Оно обращено к душе человека, к его сущности. Я убежден, что если театр занимается этим — откликнется любая публика. А дело режиссера — почувствовать, что этой публике именно сегодня, сейчас важно и нужно. Как говорил Георгий Александрович Товстоногов, «сверхзадача» лежит в зрительном зале. Порой зритель сам не может сформулировать, чего же он хочет, что его мучит, чего он ищет... И если театру удается это угадать — люди чрезвычайно благодарны. Они приходят после спектакля и говорят: «Да, да! Я тоже про это думал! И я тоже мучаюсь, что же с этим делать!» Мне кажется, что в этом — одна из самых важных задач театра вообще: вскрывать внутренние вопросы и проблемы человека, и если не решать их, то заставлять думать. Глубоко, серьезно и обстоятельно.
Л. Ф. Согласна, но для этого, кроме всего прочего, нужна очень сильная труппа.
В. Д. Это проблема собственно артиста, но она, как мне кажется, общая сейчас для всех театров, не только с такой географией, как наш. Сегодня средства массовой информации, реклама, телевидение-то, что держится на очень больших деньгах, — оттягивают таланты. Всем известно, что жить на средства бюджета государственного театра очень трудно. Зарплаты чрезвычайно маленькие, и никто выжить на них не может. Раньше тоже никто не мог, но так было везде, а теперь мои артисты видят, слышат, как живут их коллеги, снимающиеся в кошмарных, безобразных, мерзких сериалах! И получающие деньги... скажем так, более достойные. Конечно же, они не могут не думать о том, что нужно кормить детей и что-то есть самим. Многие оказываются не в состоянии совмещать работу в театре с подобным... зарабатыванием...
Л. Ф. Но ведь всегда так было. Театр — занятие убыточное по определению...
В. Д. Более того. Театром всегда, как мне думается, занимались люди... особенные. Те, кто призван. Это не профессия. А если ты призван, если ты без этого не можешь, то ты найдешь способ жить и на эти деньги, не изменяя театру. И таких примеров множество. Мы знаем великих, просто крупных артистов, которые не бросали свое дело в любых условиях, — Алиса Фрейндлих, например, работала на радио, снималась в кино, участвовала в концертах, где угодно — но себя не предавала. Или, например, Елена Яковлева из «Современника»... огромное количество имен! Да, съемки — но при этом каждый год премьера, каждый сезон — крупная, серьезная актерская работа. Такие артисты не подсчитывают разницу в зарплатах, они работают. И, думаю, театр всегда будет держаться на них. Это трудно, и это не зависит от географии.
Л. Ф. Формируя репертуар, вы ориентируетесь на состав труппы, на свой личный вкус, на потребности аудитории?
В. Д. По-разному. Этот, например, сезон мы открываем сразу двумя премьерами — Достоевским и Уильямсом. «Прекрасное воскресенье для пикника» я выбрал потому, что, как мне кажется, в этой пьесе великий драматург достиг небывалой художественной высоты. По технике письма, на мой взгляд, эта пьеса — на уровне лучших чеховских драм, высший уровень психологизма, который только можно себе представить. Что касается человеческих каких-то вещей, то это настолько добрая пьеса!.. Знаете, когда я давал её читать разным людям, то постоянно слышал: «Боже мой! Ну как же это грустно! Опять несчастная любовь, ну что же это такое?! Когда уже будет счастье на сцене?!» И меня это, честно говоря, просто бесило, потому что люди не видели в этой драме светлого начала! Уильямс, как действительно большой писатель, видит такой свет в этих своих обездоленных женщинах! И утверждает для каждой из них — жизнь. Когда-то я эту пьесу видел в постановке Анатолия Васильевича Эфроса в театре на Таганке, это был спектакль с четырьмя «звездами»...
Л. Ф. Ольга Яковлева, Анастасия Вертинская, Алла Демидова...
В. Д. Совершенно верно, и Зинаида Славина. Спектакль почему-то продержался в репертуаре очень недолго, «звезды» разошлись... и, конечно, когда я вспомнил об этом, перечитал пьесу и понял, что хочу это делать, все закричали: «Ну как?! После таких актрис! С молодыми!», — а меня это нисколько не испугало. Мне всегда хочется брать тяжелый вес, ставить по-настоящему высокие задачи перед своими исполнительницами, заставить их думать, и о самих себе в том числе. С другой стороны, ведь это история о молодых женщинах, коими «звезды» Эфроса на тот момент, кстати сказать, уже не являлись. Они были значительно старше и опытнее своих персонажей. Когда я смотрел тот спектакль, я чувствовал некоторое расхождение между тем, что есть на самом деле на сцене, — и тем, что актрисы хотят сыграть. У нас, думаю, есть, по крайней мере, это преимущество, актрисы очень близки по возрасту своим героиням и, может быть, лучше понимают их проблемы.
Л. Ф. Возрастные — возможно, но у тех «звезд», наверное, был опыт не только жизненный, но и театральный, собственно актерский?
В. Д. Что касается уровня мастерства, то как раз эта пьеса, надеюсь, очень поможет нам его наращивать.
Л. Ф. Тогда о втором спектакле. В программке к «Настасье Филипповне» определен жанр — «опыт импровизации». Что имеется в виду?
В. Д. Этот спектакль построен не на пьесе или инсценировке. Актеры овладели основными фрагментами романа «Идиот», и любая часть книги может стать отдельным эпизодом для интерпретации. Действие подчинено логике «разгоряченного сознания» двух героев. В спектакле используется абсолютно точный авторский текст.
Исключительность этого проекта в том, что спектакль по такому многослойному, многонаселенному роману играется всего двумя исполнителями. Проникая в сложную систему обстоятельств, они от показа к показу используют различные тексты романа. Позаимствовав у Анджея Вайды его замечательную идею, мы пускаемся в опыт импровизации. Впервые мы выходим на зрителя, зная только начало спектакля и его конец, обусловленный финальными страницами книги, — ночь после убийства Настасьи Филипповны. Все же, что происходит между этими двумя точками (история взаимоотношений трех главных героев), реконструируется актерами в вольной композиции, в зависимости от сиюминутной потребности. Каждый из двух актеров может повернуть сюжет в любой момент действия и в любую сторону. Можно сказать, что каждый спектакль будет единственным, созданным прямо на глазах зрителей, с неизвестной продолжительностью. Это может быть и час, и два, и три. Опыту импровизации нужен и новый формат общения с залом. Поэтому спектакль играется 10 дней подряд каждый вечер, чтобы тщательно проверить возможность многочисленных ходов и поворотов, «аранжировок» сюжета. Разумеется, для нас эта работа — своего рода профессиональное исследование. Мы пытаемся здесь решать те новые театральные задачи, которые ставит перед нами наше дело. Но все же хочу акцентировать: главная задача спектакля-импровизации «Настасья Филипповна» — постижение смысла великого романа.
Вечер первый. ОТЦЫ И ДЕТИ
Ф. Шиллер. «Разбойники». Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев, художник Маргарита Демьянова
«Кого вы зовете своим сыном?!» — отчаянно и капризно кричит в первой же сцене на своего почтенного отца юный Франц (Никита Алферов), никакое не «чудовище с лапландским носом, ртом, как у негра, и готтентотскими глазами», а белокурый симпатичный паренек, напоминающий студента-первокурсника в стильном пиджаке и модных ботинках. И эта интонация — яростной, по-детски требовательной, злой и вместе с тем трогательной тоски — становится камертоном всего спектакля. Тоски по семье, дому, родительской ласке... тема, давно волнующая В. Долгачева и не в первый раз им затронутая (вспомнить хотя бы спектакль «Дочки-матери», показанный на недавнем Володинском фестивале). Обратившись — несколько неожиданно — к пьесе Шиллера, пышной романтической драме, где кипят страсти и гремят возвышенные монологи, режиссер трактует её по-своему, изрядно сократив привычный текст перевода Наталии Ман и написав, по сути, собственную версию «для театра». И в этом тексте, и на сцене практически нет бытовой конкретики, пространственно-временные координаты первоисточника игнорируются (совершенно неважно, что действие происходит в Германии XVIII века, любые детали и приметы среды весьма условны), однако средства, которыми достигается современность звучания, не сводятся к банальному «переодеванию» классических героев в джинсы. Вместе с тем героико-революционный пафос, накрепко связанный в нашем театральном сознании с Шиллером, полностью нивелирован, история глобального антагонизма двух братьев превращена в историю сегодняшней семьи. И узловая проблема «Разбойников», по Долгачеву, такова: что же сейчас происходит в этой самой семье, если молодые люди — обычные, веселые парни, а не герои и порочные злодеи — бегут прочь, на улицы, в неформалы, наконец, в террор?..
Мы видим этих ребят уже в прологе к спектаклю: свет в зале ещё не погашен, зрители рассаживаются, а на сцене распевает буйная, подвыпившая молодежная компания, бренча на гитарах и стуча в барабаны, — точь-в-точь одна из тех стихийно образовавшихся рок-групп, в которые так любят объединяться подростки. Для старичков на лавочке — шпана, бандиты, наркоманы... «разбойники», для режиссера — вчерашние дети, не очень-то послушные, не особенно воспитанные... а может, заброшенные и недолюбленные, искалеченные скрытым неблагополучием?.. («Да достало все, — скажет Карлу Моору Косинский, — ни денег, ни перспектив. Мне двадцать лет, а я уже воевал...»). Когда зал погружается в темноту, первое, что бросается в глаза, — пламенеющая красным полоса вдоль линии рампы, граница между ровными рядами кресел и резко взмывающим вверх деревянным планшетом сцены на фоне мрачно чернеющего задника. «Земля дыбом», накренилась, попробуй устоять, не поскользнуться... катастрофически ненадежный мир, где уцепиться можно лишь за отцовское кресло, царственно и твердо возвышающееся над скользким помостом. Это кресло да старинная люстра над ним — как символ Дома, небольшой островок, оттесненный куда-то в сторону, на обочину. Франц, обделенный человеческим теплом из-за отцовского самодурства, так и норовит поначалу опереться на фамильный «трон», залезть на него, по-домашнему ослабив узел галстука, — а потом, когда принято решение («Я стану хозяином в этом доме!»), застывает восковой фигурой около кресла, безмолвно наблюдая за братом...
А брат Карл (Андрей Курилов), мрачный и немногословный (на гитаре, кажется, импровизирует чаще, чем вступает с кем-то в разговоры), похожий на рано постаревшего рок-идола, как раз «хозяином» становиться не желает. «Хочу простого, — потухшим голосом говорит он, зябко кутаясь в кожаную куртку, — жить в доме отца... с Амалией...». Его стремление к когда-то презираемому, а теперь уже недостижимому покою подчеркнуто режиссером как пластически (герой постоянно ходит туда-сюда по сцене, ему буквально не усидеть на месте, а в какой-то момент — удается замереть в позе эмбриона), так и с помощью предметов (парадоксально, но именно в эпизодах «лесной вольницы» на пустой сцене появляются сундучок, чайник, нож, фляжка, платочек, нехитрая холостяцкая пища, которую жадно, как на пикнике, поглощают «разбойники»). Ясно, что в свое время его толкало «на свободу» почти протасовское «мне стыдно»... и ясно, что свобода так и не обретена. Огромные резные ширмы, спускающиеся с колосников, крепко, как тюремные решетки, держат его здесь — он в ответе за мальчишек, которые ему верят. Лес, угрожающий и одновременно «ненастоящий», как снежинка, вырезанная ножницами из бумаги, — их нынешнее пристанище, сюда их выгнали ошибки и заблуждения старших. «Помню, в детстве... вернуться бы!» — мечтается Карлу, и корзинка в его воображении вдруг трансформируется в ящик для игрушек... но рядом — стайка парней, для которых самому пора становиться «отцом». И не зря именно его предпочитает серьезная девушка Амалия (Александра Змитрович) — ей неинтересен амбициозный, инфантильный Франц с его истериками, хватающийся то за шпагу, то, в подражание брату, за гитару. Она — цельная, земная, здравомыслящая — тоже хочет семьи — но с человеком, обладающим внутренней силой, способным совершить выбор и взять ответственность на себя.
Несмотря на определенное снижение, неизбежное при подобной переакцентировке шиллеровского текста, режиссер помнит о зрелищности, которой, как ни крути, требует пьеса «с кровавыми убийствами», и строит спектакль как монтаж визуально эффектных, запоминающихся фрагментов. Связи между ними вполне содержательны: пластические этюды, вокально-танцевальные вставки — сценический язык «Разбойников» столь же изобретателен, сколь эклектичен. Остроумно решены массовые сцены — как бесконечное движение по кругу, стремительное «засасывание» в воронку зла.
Особо хочется отметить свойственную В. Долгачеву культуру мизансцены: пространство освоено так, что каждая «картинка» работает на смысл — это как раз тот случай, когда ситуации, взаимоотношения героев, их мотивировки и т.д. понятны «без звука». И режиссерский сюжет тоже: как писал Ф. Шиллер, «отцы реже всего прощают своим детям как раз те пороки, которые сами же им привили».
Вечер второй. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
Т. Уильямс. «Прекрасное воскресенье для пикника». Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев, художник Маргарита Демьянова
Как ни странно, «мысль семейная» отчетливо прозвучала и здесь — хотя, казалось бы, более неподходящего автора, чем Уильямс, трудно вообразить. Режиссер пошел на сознательный конфликт с материалом, и в полной мере это становится ясно в финале, который по-своему замечателен: длинноногая блондинка Доротея (Виолетта Давыдовская) лишена права на трагедию — она «спасена» на краю бездны: вместо того чтобы от безысходности и отчаяния отправиться на пикник (ясно же, что именно в пьесе этот пикник символизирует!), героиня вдруг осознает, что колбаса и кислая капуста — это, в конце концов, не так уж и плохо, веселый толстяк, любитель пива Бадди — не обязательно жлоб, а вместо того чтобы витать в облаках, неплохо бы взять себя в руки и жить дальше. Можно было бы иронизировать, вспоминая случаи из истории советского театра, когда по идеологическим соображениям к пьесам печального американца искусственно «добавлялись» хэппи-энды, — однако Долгачева трудно заподозрить в конъюнктуре. Здесь дело, думается, в другом: есть в его режиссерском мировоззрении вполне определенные приоритеты...
Вообще, сравнивать этот спектакль с пьесой — дело неблагодарное, «несоответствия» вылезают на каждом шагу, и, конечно, специалистов это будет раздражать. Но, в конце концов, сценические возможности «Прекрасного воскресенья» подразумевают и мелодраму — а Долгачев последователен в рамках выбранного жанра («женские истории в двух частях»), не теряя при этом мягкой иронической интонации. На сцене — мещански пестрая квартирка-шкатулка, напоминающая расписную матрешку: дверки, окошки, увитые пластмассовыми цветочками, шкафчики, откуда, стоит только дотронуться, вываливаются баночки-скляночки, куколки, подушки... «Тревожащих» деталей совсем немного: букет над комнатой Доротеи, похожий на погребальный венок, да клетка с игрушечной птичкой. В этой среде (для кого-то неживой, насквозь декоративной, а для кого-то, напротив, прелестной своей декоративностью) обитает хозяйка Боди (Ольга Беляева) — свежая немочка в кудряшках. Полная, симпатичная, в расписной кофточке и домашних шароварах, руки в муке и жире — воплощенная женственность, какой её видят любители домашнего уюта; румяная домохозяйка, уверенная в себе, сочно хохочущая и радостно предвкушающая пикник (для нее — семейный обед, включающий не только гастрономические наслаждения, но и «вкусное» общение с братом и подругой). Она как будто не замечает, что нервная, ломкая, манерная, по-балетному утонченная Дороти — «из другого теста», но именно как будто — Боди уверена в том, что рано или поздно все будет хорошо и здравый смысл возобладает. Исходя из общей трактовки, а также благодаря блестящему актерскому исполнению роль Боди становится в спектакле центральной, смыслообразующей: героиня — носитель конечной истины, и О. Беляева сразу дает нам это понять. Это её курицы аппетитно жарятся за дверью в кухоньку, её корзинка — большая, удобная, красивая — вместит закуски и горячее для всех, кого захочется угостить; это её близнец в конце концов женится на чудачке Доротее... а глухота? Небольшой физический недостаток (без всякого символического подтекста!), что он значит в сравнении с добротой и сердечностью! Искусственные цветы? Имитация, но если верить — они могут стать почти настоящими...
Образ Боди — центр спектакля, но это вовсе не значит, что остальные героини на её фоне — лишь кордебалет. Интересны и другие работы. Ирина Мануйлова (Элина) играет некий вариант Бланш Дюбуа, случайно попавшей в мир «кумушек» из другой пьесы Уильямса и старающейся высокомерно поджатыми губами, брезгливо-басовитым голосом и нервным смехом прикрыть свой страх одиночества («Меня не сломить!» — а сама уже давно сломлена, беззащитно щурит близорукие глаза, замирает в нелепой позе на высоком стуле, как у барной стойки, цепляясь за собственную сумочку, как за соломинку...). Татьяна Кондукторова (Софи Глюк) очистила роль от всякой инфернальности и сделала акцент даже не на патологии, свойственной больным людям, а на простом человеческом горе дочери, недавно потерявшей мать (читай: всю семью сразу!). Правда, в какой-то момент Долгачев позволяет себе шутку: Глюк в черном и со шваброй в руках стоит у изголовья пьяной Доротеи, в истерике рухнувшей на кровать, — такая пародийная фигура «смерти с косой», — но это выглядит не столько зловеще, сколько смешно...
Самая трудная задача стояла перед Виолеттой Давыдовской. Поначалу её манера игры казалась излишне аффектированной, изобилующей необязательными красками, «перегибами»: фигура Доротеи весь первый акт казалась карикатурой на «уильямсовскую героиню вообще» и поэтому раздражала. Но чем ближе к финалу — тем яснее становились причины такого хода. Пафос Долгачева прост: одинокая, бесприютная женщина с разбитым сердцем — это неестественно! Когда красивая молодая девушка не отходит от телефона (а тот все молчит...), запивает транквилизаторы алкоголем — это извращение. Помрачение сознания, «завихрения», ложное представление о романтике, детство... И лишь прочтя газетную заметку, Доротея становится собой, «взрослея» на глазах у зрителя, крепко обнимает Глюк, от которой час назад шарахалась, как от зачумленной, и говорит, говорит, будто бы боясь не успеть излить свою боль, исповедуется существу, которое уже познало, что такое несчастье, — актриса виртуозно играет перерождение вздорной, глуповатой блондиночки — во взрослую женщину, понявшую о себе что-то важное. И боль отступает... Меняется выражение лица, пластика, интонации, и пусть этот смысл не имеет к Уильямсу ровно никакого отношения — для Долгачева важно, что он в силах подарить существу, казалось бы, обреченному — маленькую надежду.
Вечер третий. НЕПРИКАЯННОСТЬ
«Настасья Филипповна» (по мотивам романа Ф. Достоевского «Идиот»). Постановка Вячеслава Долгачева, художник Маргарита Демьянова
«А кто играет Настасью Филипповну?» — тихо интересуются зрители, перелистывая программку в полумраке Малого зала. Скоро станет ясно: заглавная героиня на сцене так и не появится. Её «присутствие» придумано и воплощено иначе — вот платье, небрежно брошенное на диван, вот портрет в витой рамке, вот нитка крупного жемчуга, кокетливо свисающая с выдвинутого ящичка туалетного столика, вот узорчатая ширма, а вот и тяжелый занавес, темно-красный, будто пропитанный кровью... О Настасье Филипповне будут в течение нескольких часов говорить и спорить два человека, любившие её, — но действие начнется уже после убийства, из трех свечей в канделябре одна — потухшая — так и не вспыхнет до финала...
В камерном зале — ночь, тьма, в буквальном смысле слова. Видимость минимальна, скупой «лунный» свет таинственно льется сквозь мутное оконное стекло, то и дело выхватывая из темноты лица, кисти рук, бокалы, краешек подушки, переплет книги, гнутую спинку стула... Темно — и странно, непривычно тихо. Ни музыки, ни лишнего звука, ни шумов. Лишь приглушенные голоса актеров. Почти физически ощущаешь замкнутость пространства, в какой-то момент испытываешь чуть ли не приступ клаустрофобии — теснота, духота, ужас... не как бытовой страх, вызванный конкретной причиной, а Ужас экзистенциальный, тот, что испытывает человек во Тьме. В данном случае — Парфен Рогожин (Андрей Курилов), ибо весь спектакль — это его история, его беспощадный самоанализ, это он в прямом и переносном смысле «на ощупь» двигается по сцене, пытаясь найти опору... Настасья Филипповна — лишь повод, князь Мышкин (Михаил Калиничев) — средство, почти абстрактный собеседник, человек-критерий, человек-сон... Мышкин в «Настасье Филипповне» действительно напоминает призрак. Реальность — это труп, скрытый в соседней комнате, остальное — воспоминания, воображение, муки...
Режиссерская тема явлена и здесь, правда завуалированно, в несколько «смещенном» ракурсе, — но высказывание, тем не менее, внятно и «перекликается» с темой «Разбойников». Рогожин — убийца, существо полубезумное, агрессивное, озлобленное — и неприкаянное, бездомное, нелюбимое. Такая концепция, конечно, резко сужает философское поле романа, обедняет его проблематику — однако формальный прием, на котором строится действие, компенсирует этот недостаток.
Материал спектакля — эпизоды романа (например, рассказ князя Мышкина о приговоренном к смерти, сцена именин и сожжения денег, обмен крестами, разговор в поезде и т.д.), которые монтируются каждый раз иначе. Трудно описать нечеловеческое напряжение, невероятный эмоциональный «градус» диалога, который ведут персонажи (актеры?..) этого странного, изматывающего, выжимающего тебя как лимон спектакля-исповеди. Артисты произносят текст, почти не повышая голоса. Одна сцена, другая, третья... монолог, опять диалог, пауза — и в итоге картина пути, пройденного персонажем. В легендарном «Идиоте» Товстоногова (как не вспомнить?) зал, затаив дыхание, ждал ответов на вопросы от Мышкина-Смоктуновского; здесь — иначе. А. Курилов, не заигрывая со своим персонажем и не оправдывая его, последовательно ведет его к расплате: через глубокую психологическую разработку, целую систему мотивов и отсылок, отчаянную рефлексию, анализ мельчайших душевных изгибов, нападая и защищаясь... Он — безусловный лидер в этом дуэте, и это справедливо: ведь громкий стук в дверь, внезапно и страшно обрывающий спектакль, — и есть «колокол», что звонит по нему...
