
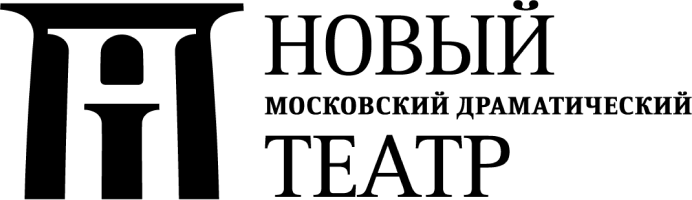 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
23.01.2010
«И вышла саранча на землю...», или танец потерянных душ
Первое желание — отмахнуться. Брезгливо и раздраженно. Мол — зачем мне все это. Вот Чехов — это да, это «о высоком», — а тут что такое: какой-то еще Урс Видмер (кто это?!), какие-то «Top dogs»... Фи, гадость какая. Не хочу! И слушать не стану. Посижу и пойду восвояси. До следующего Чехова. Вот примерно нечто подобное промелькнуло в сознании на первых минутах спектакля Вячеслава Долгачева «Top dogs, или Новые игры взрослых».
Промелькнуло — и растаяло, и вопрос о том, чтобы «не слушать», сам собой отпал. Театр начал вершить свой бал: вовлек, увлек, подчинил, заинтриговал... И дистанция, отделяющая нашего современника швейцарца Видмера от классика Чехова, перестала восприниматься пропастью... Словом — все встало на свои места. И стало хорошо: оттого что понятно — зачем. Зачем нам это играют и зачем мы это слушаем. Как ни смешно, может даже и нелепо, звучит — но те, кто ходит в театр часто и регулярно, думаю, что меня поймут. Потому что, как правило, с вопросом «зачем?» смотришь, с ним же, оставшимся без ответа, и уходишь. Как правило еще, отсутствие смысла пытаются закамуфлировать внешней вычурностью, от чего это отсутствие становится еще очевиднее. Ну, об этом уже все знают, не новость.
В спектакле Долгачева первое что останавливает внимание, — подчеркнутый, вызывающий аскетизм. Художник Маргарита Демьянова, его постоянный соавтор, идеально чувствует в каждом конкретном сценическом сюжете особость и конкретность. Потому в этом спектакле «умер в актерах» не только режиссер-постановщик, но и художник-постановщик тоже. «Умерли» — создав, на самом деле, идеальную среду, как бы безликую, как бы бесстрастную, в которой актерским индивидуальностям — роскошный простор. При одном маленьком таком условии: ежели эти индивидуальности есть. Здесь — есть, и еще какие!
Для того, чтобы мы окончательно удостоверились — какие, Долгачев идет на совсем уж неслыханный риск, вводя экран, на котором — лица актеров в режиме реального времени, гигантским увеличением. Тем приближением к нам, какого не бывает, даже если сидишь в первом ряду. Глаза Никиты Алферова! Глаза Сергея Моисеева! Глаза Дмитрия Светуса! (Дальше просто не перечисляю.) С такими глазами можно играть Гамлета, князя Мышкина, Дон Кихота... С такими именно глазами (и со всем тем, что таким глазам сопутствует, потому что тут не техника и не ремесло — совсем другое!) они и играют персонажей пьесы Видмера, менеджеров высшего звена, которые остались без работы: в отчаянии, в ощущении ненужности и бесперспективности. Остаются — в пустоте. Играют — превращая написанные автором, в каком-то смысле, схемы — в замечательно живые характеры. Нет, совсем не в смысле «топ-менеджеры тоже люди», еще менее — про то, что «богатые тоже плачут». Лишившись работы — они словно черепахи, вынутые из панциря: абсолютно беззащитны и страшно уязвимы. Их занятия в «Бюро смещенных лиц» поначалу вызывают улыбку, быть может, даже усмешку, быть может, даже и не слишком добрую. Ощущение, что все эти люди, лишившиеся (лишенные) высоких хорошо оплачиваемых постов, ничего не умеют. Что — бесполезны, даже никчемны. Постепенно из их общения, из ролевых игр (подчас вполне актерски пародийных, а подчас и подлинно драматичных), из рассказов, исповедей, временами изумляющих степенью безыскусной открытости, — из всего этого проступает постепенно: вместо недоверчивости — тепло, вместо погруженности в собственные проблемы — внимание к проблемам других людей. Они словно просыпаются из долгого летаргического сна, словно высовывают, поначалу осторожно и неуверенно, свои головы: что тут?.. как?..
Следуя поначалу за автором, Долгачев постепенно, очень исподволь, меняет регистр. В пьесе действие движется к тотальной горечи и полному распаду — в спектакле, напротив, к проблескам надежды. Предпоследняя картина пьесы — «Великий плач» — у автора представлена как «нарастающая мольба, нарастающая паника». В исполнении долгачевской труппы она восхитительно иронична, играется в бешеном, по нарастающей происходящем, ритме, отчетливо импровизационна. Думаю, как ни странно, здесь — пресловутая разница «менталитетов»: что для швейцарца — катастрофа, для русского — комариный укус, не более. Еще очевиднее уход от авторской апокалиптичности в сцене последней, финальной. «Прощание» — ибо одной из персонажей (чуть не написал «из пациентов»!) удалось-таки найти себе работу. Состояние оставшихся автором характеризуется как «танец потерянных душ»: «Сцена такая же, как в начале спектакля». Мне показалось, что у Долгачева она принципиально иная. В немой сцене после ухода Юлики Йенкинс у каждого из оставшихся — своя партия без слов. Точная и выразительная. Пружиняще-энергичная. Ну да, ну «вышла саранча на землю», — и что из того? «Танец потерянных душ»? Да никогда!
