
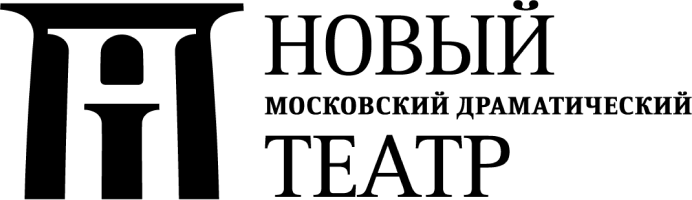 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
05.03.2010
Тройной перевод
Репертуар Нового драматического театра не перестает удивлять. Только в этом сезоне нам открыли швейцарского драматурга Урса Видмера с его «антикризисной» пьесой «Top dogs, или Новые игры взрослых», напомнили полузабытую уже историю «Тойбеле и ее демона» Исаака Башевиса Зингера и Ив Фридман и вот теперь пригласили на спектакль «Додзёдзи-храм» по одноактным пьесам японца Юкио Мисимы в переводе Григория Чхартишвили (более известного под именем Бориса Акунина) и Тосия Мацусимы.
Нет, конечно, творчество Мисимы, в том числе и драматургическое, у нас достаточно хорошо известно (хотя и не в столь широких читательско-зрительских кругах, как того же Акунина). Но вот эти маленькие пьески, объединенные жанром «подражание Театру Но», в Москве не ставились никогда, да и опубликованы были всего единожды, в журнальном варианте. Что же до «тройного перевода», то ему действительно уделено много места, причем речь идет не только о языке. Сочиняя свои «подражания», Мисима пытался вписать темы, мотивы и традиции древнейшего японского театра в современный контекст века ХХ. И при этом сделать так, чтобы все это было понятно и интересно не только японскому, но и европейскому зрителю. А потом уже Вячеславу Долгачеву, художественному руководителю Нового драматического и режиссеру спектакля «Додзёдзи-храм», пришлось заняться театральным переводом — на язык сцены, опять же не утратив этой традиционной японской ауры, но от визуальных восточных приемов в костюмах и декорациях отказавшись.
Эти пьесы Мисимы, между прочим, запросто могли быть представлены еще в одном жанре — радиотеатра. Здесь минимум внешнего действия и всяческих эффектов, длиннющие монологи, в которых герой (героиня) изливают последовательность своих внутренних состояний, некая интонационная монотонность в ущерб характерности. Все это и есть — отголоски Театра Но, пусть даже и несколько трансформированные Мисимой. Так что сценическая адаптация представлялась делом сложным, но с ней в Новом драматическом справились, передав прежде всего эту своеобразную, тревожную, слегка нездешнюю, вибрирующую атмосферу происходящего, в которую то и дело вплеталось стилизованное японское музыкально-звуковое сопровождение (музыкальное оформление Ларисы Казаковой).
В пьесе «Додзёдзи» место храма занимает громадный антикварный шкаф, своими габаритами и какой-то мрачной торжественностью и впрямь напоминающий храм (сценография Маргариты Демьяновой). Причем тот, что специализируется на погребальных церемониях, — инкрустации на створках похожи на роскошные крышки гробов, украшенных деревянными цветами. Оно и понятно, тема перехода в иные миры — в этом восточном театре одна из главных, да и речь в пьесе идет о молодом человеке, в этом шкафу застреленном после любовных утех.
И лишь только Антиквар (Дмитрий Шиляев) готов в третий раз ударить аукционным молотком, дабы сбыть этот шкаф с рук за баснословную цену, как неведомо откуда является танцовщица Киёко (Александра Змитрович), властно присваивающая себе всю дальнейшую историю-монолог. Историю о том, как жизнь побеждает смерть, как надежды юности постепенно одерживают верх над безудержным стремлением добровольно перейти в иной мир, захлопнув за собой дверь шкафа и повернув ключ.
На долю молодой актрисы Александры Змитрович выпала задача весьма трудная, ведь здесь не следует традиционно «проживать» человеческую историю, но рассказывать ее и о ней, причем так, чтобы в рассказе ощущалась жизнь, причем очищенная от приземленного быта. Именно к этому и стремится актриса, временами блестяще достигая нужного результата. Временами, впрочем, от него отдаляясь из-за излишней внешней суеты, видимо, вызванной премьерным волнением. Но как только эта суетливость и «подчеркивание» слова и жеста сменятся более строгой, но внутренне наполненной «восточной» отрешенностью, все сразу встанет на свои места.
Как это, впрочем, уже случилось во второй пьесе «Надгробие Комати» у актрисы Ирины Мануйловой, эту Комати и играющую. Вторая история — более загадочная и даже с мистическим привкусом, хотя и на ту же тему перехода в иные миры. Нищая старуха Комати, которой без малого сто лет, одним лишь своим рассказом вынуждает юного и пьяного Поэта (Евгений Рубин) признать и вживую ощутить ее вечную красоту, торжество прекрасной женской сущности. Смертельно прекрасной, поскольку очарованному и завороженному Поэту уже не доведется встать с парковой скамейки живым.
Эти скамейки под стать прежнему шкафу и отнюдь не смотрятся приютом для юных влюбленных, которые в обнимку сидят в разных уголках сцены. Они, скорее, выглядят мрачными каменными надгробьями, своеобразными памятниками прежним влюбленным, которых давно уже нет на этом свете.
Ирина Мануйлова — Комати точно попадает в нужную эстетическую монотонность интонаций, с их безжизненной приглушенностью, словно бы голос звучит уже «с той стороны». Зато каким неожиданным контрастом вдруг врываются в этот глухой голос юные, свежие, звонкие нотки, когда старуха словно бы звуково иллюстрирует свои воспоминания. При этом Комати — Мануйлова не утратила весьма современного чувства юмора, ее ироничные пассажи опять-таки контрастируют с мрачной строгостью истории, неожиданно переключая эмоциональные регистры и тем самым добавляя происходящему ощущение сиюминутности жизни. И особенно хорош еще один контраст — этой осознанной строгой отрешенности и нервического, взвинченного поведения Поэта — Рубина, которого Кома — Мануйлова затягивает на свою орбиту.
Прочие же эпизодические персонажи обеих историй (роли которых исполняют Александр Курский, Анастасия Безбородова, Ирина Бондарева, Дмитрий Лещук, Антон Морозов и Дмитрий Светус) в визуально-эмоциональной «картинке» этого спектакля похожи на знакомые «буквы», теснящиеся вокруг загадочной и стильной иллюстрации. Где важно все — и текст, и иллюстрация, потому что их синтез и рождает ту самую атмосферу, которая здесь столь сильна, что способна накрыть собой и мелкие актерские несовершенства, которые, вероятно, со временем исчезнут. А «Додзёдзи-храм», пожалуй, останется главной удачей нынешнего сезона Нового драматического театра.
