
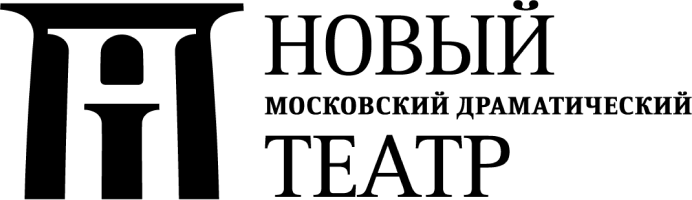 +7 (499) 182-03-47
+7 (499) 182-03-47
Версия для слабовидящих
Ru
01.06.2006
Записки из подполья. Фарс
Вячеслав Долгачев поставил у себя в Новом драматическом спектакль по Достоевскому. Называется «Происшествия невероятные», подзаголовок имеет «петербургские анекдоты в 2-х частях», в основу положены рассказы «Бобок», «Чужая жена и муж под кроватью», «Крокодил, необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже». Увлечение столичной режиссуры Достоевским в последние несколько лет стало походить на эпидемию, и не только в том дело, что много, а в том, как ни странно, что слишком уж серьезно. Слишком буквально. Слишком — как ни странно! — доверчиво по отношению к классику.
Предвижу реплику вдумчивого читателя: на этих критиков не угодишь! То они чрезмерной вольностью недовольны, а этот вот — чрезмерной доверчивостью… Попробую объяснить и объясниться. Достоевский на московской сцене последних лет — это «Мальчики» Сергея Женовача, это «Карамазовы» Сергея Арцибашева, это, наконец, «Нелепая поэмка» Камы Гинкаса. Все трое, ещё совсем недавно, из числа моих любимых режиссеров. Восхищенные рецензии, пространные интервью. От ранее написанного — не отрекаюсь. Увиденное сегодня — не принимаю. Во всех трех спектаклях — таких разных! — мнится мне ужасная назидательность, нравоучительная идеологичность, эдакая насупленность, словно все время проповедь тебе читают. Все это именуется одним словом: фальшь. Тем, что названо было когда-то Питером Бруком «мертвым театром». Разумеется, это личное мое восприятие, не более. Но и не менее. Мне кажется, мессианство великого нашего классика сыграло с сегодняшними театральными художниками злую шутку, лишив их легкости, ироничности, трезвости. Уведя из их спектаклей игру и театральность. Стремление к спектаклю-высказыванию — понятное, учитывая иную крайность, вполне на нашем театре популярную: поверхностность и дешевое ерничество — увело их от воссоздания на сцене живой жизни, от людей и судеб, от на наших глазах происходящего, здесь и сейчас рождающегося. Ощущение, что ведомые режиссером актеры выходят к нам, все уже наперед зная, не ведая сомнений и не ища решений, выходят не жизни проживать, но делиться с нами накопленными тезисами, суждениями и умозаключениями. Увольте! С этим — на симпозиум, на лекцию, в общество по распространению знаний, куда угодно — только не в театр!
Отчего такая долгая и сердитая преамбула к обещанному отклику на «скромный» спектакль удаленно расположенного Нового драматического театра? Вдруг поймал себя на том, что туда, в эту «удаленность», сместилась в последнее время и география моих, увы, редких и немногочисленных откликов-рецензий. Отчего так происходит?
В их удаленности, в их «немодности» есть-таки свое сильное преимущество: отсутствие суетности и серьезное отношение к профессии. Приятно был удивлен, когда в разговоре с одним из артистов театра услышал ровно то же самое. Тем не менее возразил: мол, наверное, вам тоже хочется славы, известности, узнаваемости… Как артисту без этого? В ответ услышал обратное: нравится то, что имеют, — сосредоточенность и вдумчивость. Что ж, браво! В первую очередь, конечно, самому худруку, сумевшему столь увлечь артистов художественным процессом, что они способны меньше стремиться к сиюминутности. Вообще сосредоточенная занятость делом ещё никому и никогда во вред не шла. И на артистах Нового драматического это очень заметно.
Итак, премьера!
Что для меня замечательно отличает спектакль Вячеслава Долгачева от вышепоименованных (отделяет — от тенденции!), так это восхитительное отсутствие насуп-ленно-наставительной мины. Назидательности всезнайства и мнимой философичности. Ибо великий наш классик был потрясающим быто-, жизне- и человеко-описателем, но вот философом он никоим образом не был. Философия если есть, то та, что произрастает из его художественных прозрений и открытий, а никак не «в чистом виде». Отличительное — и для меня спасительное! — свойство спектакля Долгачева — иронизм. Недаром ведь обозначен в подзаголовке жанр «анекдота» — ни в коем случае не отменяет ни серьеза, ни интеллектуальности, ни даже и философичности, но преподносятся они не с кафедры, либо же с амвона, а с помощью того, чем от этих учреждений и структур и отличается театр: игры. Новодраматические артисты замечательно владеют легкой «порхательностью», ироничностью без натуги, легкомыслием без пошлости. Они умеют играть утрированность, лишенную нажима, рискованность мизансцен, не перерастающую в расхожее дурновкусие. Причина, во-первых, — выучка, во-вторых, — смысл. Ничто никогда не делается «просто так», хохма ради хохмы, «вкус, отменная манера» все определяют.
Сюжет спектакля объединен фигурой литератора Ивана Иваныча, героя-повествователя рассказа «Бобок», и жутковатость его присутствия на сцене рождается из той непринужденной легкости, с какой артист Владимир Приезжев ведет странно-фантасмагорическую партию своего персонажа. Включенный волей автора спектакля в ткань иных рассказов, он присутствует на сцене — для участников действия незримо, и комментарий его звучит для них неслышно. В этой мнимости, в этом присутствии-неприсутствии, в мистицизме этой внешне предельно прозаической фигуры — и Достоевский, и Гоголь, и вся та зыбко-неуловимая стихия русского абсурда, что так трудно улавливаема и так легко ускользаема. В спектакле Долгачева она существует естественно, словно само собой разумеющаяся.
Впрочем, разыгрываться перед нами будут два других сюжета: «Чужая жена…» и «Крокодил» — в антураже нарочито-пародийного шика (сценография Маргариты Демьяновой), в костюмах вызывающе театральных, буффонадно-лицедейских (автор — Татьяна Глебова). Лишь неслышно скользящее, блекло-серое присутствие рассказчика-комментатора замечательно оттеняет всеобщую карнавальность, ненавязчиво, но зримо напоминая ещё о чем-то. Неким камертоном, работающим по принципу «наоборот».
Спектакль открывается поднятием «старомодного» тюлевого занавеса, из-за которого под музычку в ритме танчика возникает гротескно-шаржированная городская толпа. Это праздношатающиеся, пришедшие поглазеть на диковинное заморское чудо, — крокодила в Пассаже. Привезен заезжими немцами. Хозяин (Евгений Рубин) — неожиданно юн, щупл и пуглив, хозяйка, именуемая муттер (Елена Муравьева), — вульгарна и дешево-шикарна. «Акватория», в которой располагается чудище заморское, внаглую перед нами, больше похожая, впрочем, на бордельную поместительную кровать. Фантом кровати возникает не случайно, ибо в какой-то момент действие прихотливо перенесется в спальню прелестной Лизы, героини следующего «анекдота», и место «крокодильни» займет уже настоящая кровать, а под нею обнаружатся два необычайно колоритных субъекта. Отделенные пародийно-прозрачным тюлем, они будут вести свою дивно абсурдную беседу. Взволнованно-взнервленный Иван Андреич Шаврин в каком-то странном мундире с фрачными «хвостами», но при этом в теплых то ли ботах, то ли унтах (Олег Бурыгин, этой ролью отметивший «вступление в должность» заслуженного артиста), и некий Клиневич, обозначенный в программке как «франт»: Михаил Калиничев, эдакий котяра-понтяра, хлыщ и прохиндей, пройдоха и плут — легкий, смешной, чудесный! Мюзикхолльные надворные советники, опереточные генералы, дамы, отчетливо смахивающие на кокоток… и среди них, незримый, скользящий — фантомный! — жутковатеньким мелким бесом — Иван Иваныч, литератор, «бобок»…
Вещающий из чрева крокодила, где ему и тепло, и уютно, Иван Матвеич, повизгивающий из-под кровати, где ему тесно и противно, Иван Андреич… Мы и не заметим, как все это отыграется и закончится, и на месте крокодильни-кровати образуется пустое пространство, а в текст из рассказа «Бобок», который начнет проговаривать нам его герой Иван Иваныч, вплетутся и франт Клиневич, и генералы, и чиновники, и надворные советники, и дамы-кокотки… В какой-то момент, подняв глаза, увидим будто из театральной ложи смотрящих представление — немцев, бесстрастно наблюдающих эти «картинки российской жизни».
Темп ускоряется, становясь лихорадочно-бешеным, одновременно мистическим, словно смотришь неотвязчивый кошмарный сон… «Петербургские сновидения»? Как знать… На полуфразе, на словах про «бобок — разврат последних упований» неожиданно все оборвется. И, контрапунктом к увертюрному танцу спектакля, легкомысленному и беззаботному, случится танец иной, замедленный и призрачный. Тот, что единственно и возможен сейчас, когда в такой вот иронично-неопровержимой манере перед нами сыграли некие веселые анекдотцы. Вызвавшие — почему-то? — ассоциации с самым, наверное, мрачным, что написано было Достоевским: с его «Записками из подполья». А вообще-то — анекдот, фарс, танчик-канканчик…
